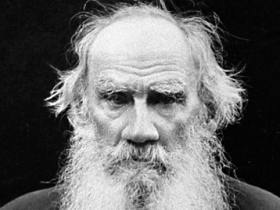Глупость или измена? Либералы и бюрократы на войне / Джошуа Санборн
* * *
Н.И. Дедков. Консервативный либерализм Василия Маклакова. М., 2005. 224 с.
Ф.А. Гайда. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 — весна 1917 г.). М., 2003. 432 с.
С.В. Куликов. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914–1917). Рязань, 2004. 472 с.
Изучение российской внутриполитической борьбы в годы Первой мировой войны началось еще до того, как стихли ее последние залпы, и продолжалось с тех пор более-менее с тем же рвением. Как внутри Советского Союза, так и за его пределами существовала обширная (хотя и разрозненная) источниковедческая база, а драматические и весомые события военных лет складывались в отличный сюжет. В наличии имелись все ингредиенты шикарной мыльной оперы: политическая игра с самыми высокими ставками, заговоры и интриги, мистика и убийства. Главные действующие лица являлись яркими и выдающимися персонажами. Более того, поскольку вожди оппозиции знали толк и в виртуозной риторике, и в практической истории, они оставили нам превосходные источники и собственноручные описания тех событий, в которых принимали участие.
На Западе сочетание этих факторов с неизбежным вопросом о том, почему русская революция «пошла не так», привело к появлению множества чрезвычайно достойных исторических работ. В Советском Союзе, как указывают при обзоре литературы все рецензируемые авторы, масштаб исследований был более ограниченным. Тем не менее они также ясно дают понять, что ученые старались вырваться из сталинистских и неосталинистских оков, стремясь к тому, чтобы читатель мог хотя бы прочувствовать вкус той эпохи. Таким образом, перед молодыми российскими исследователями, включая рецензируемых авторов, несомненно, открылось широкое поле деятельности. Сняты все ограничения по данной теме, стали доступными зарубежные исследования, открылись архивные источники, и впереди замаячила возможность написать обобщающий труд по политическим процессам военного времени. Новые авторы, вооруженные знанием иностранных языков, заметной наклонностью к интерпретациям и немалым зарядом энергии, решительно приступили к разработке своих тем и добились серьезных результатов.
В частности, работа Федора Гайды настолько глубока и всеобъемлюща, что, по неформальному отзыву одного моего русского коллеги, она представляет собой «последнее слово» по вопросу о русских либералах и войне. Я не могу согласиться с этой оценкой, однако сам Гайда утверждает, что не метил так высоко, предлагая, чтобы его работа не более как «послужила началом нового этапа» в историографии (С. 11), дающего возможность рассматривать и свежие материалы, и прежние работы в широком контексте. В качестве основной цели он ставил перед собой «рассмотрение вопроса о власти и методах борьбы за нее» (С. 31) в российском либеральном движении во время Первой мировой войны и Февральской революции. На практике это означало изучение деятельности конституционных демократов (кадетов) в Петрограде в годы войны.
Ключевая тема работы заявлена на обложке книги, где помещены миниатюрные фотопортреты 19 мужчин и одной женщины (Ариадны Тырковой), являвшихся членами ЦК партии кадетов. Значительное место в работе Гайды занимают другие важные фигуры — в первую очередь наиболее известные октябристы и прогрессисты, вожди общественных организаций, координировавших работу для нужд фронта, и провинциальные кадеты, в конце концов заметно радикализировавшиеся по сравнению с их соратниками из столицы. Однако все эти люди рассматриваются главным образом в контексте их взаимоотношений с петроградскими кадетами. Такой выбор главной точки приложения вполне разумен, поскольку во многих важных отношениях именно кадетская фракция в Думе являлась живым сердцем «либеральной оппозиции» в течение всей войны.
Тем не менее, если в историографии этого движения действительно открывается «новый этап», остается надеяться на то, что будущие авторы уделят больше внимания более широкой группе либеральных активистов. Книга Гайды разделена на три большие главы, соответствующие основным периодам борьбы за власть во время войны. Первая глава, «Либеральная пьеса (лето 1914 — лето 1915)», посвящена первым годам войны: в ней описывается отход от политики «Священного единения», свойственной для первых месяцев войны, и его результат: создание летом 1915 г. многопартийного, умеренного Прогрессивного блока. Формирование этого блока и последующие требования политического центра, обращенные к царю, привели к серьезному кризису, кульминацией которого стали переход царя Николая II на правые позиции, отставка умеренных министров, роспуск Думы и взятие царем вооруженных сил под личный контроль.
Во второй главе, озаглавленной «Тоска по влиянию (осень 1915 — февраль 1917)», разбирается деятельность либеральной оппозиции начиная от политического кризиса 1915 г. и кончая преддверием петроградского восстания в феврале 1917 г.
В третьей главе, «Нас выбрала русская революция (весна 1917)», рассматриваются действия либералов во время Февральской революции и в первые месяцы работы Временного правительства, приблизительно до момента выхода лидера кадетов П. Н. Милюкова из состава кабинета 2 мая 1917 г. Гайда излагает события широкими мазками, рисуя хорошо знакомую (особенно для западных читателей) картину. Начав войну при практически единодушной поддержке политической элиты страны, царь и его правительство в течение двух с половиной военных лет растратили всю эту поддержку, добившись того, что на царской стороне баррикады не осталось буквально никого.
Основные вехи этой истории также вполне нам знакомы. Первым ключевым моментом было решение умеренных вступить в «Священное единение», принятое в связи с началом войны в июле 1914 г. после ожесточенной борьбы оппозиции с правительством в течение предыдущего десятилетия.
Второй ключевой момент настал после череды сокрушительных военных поражений весной и летом 1915 г., когда многие политические фигуры и в парламенте, и в министерствах тщетно призывали Николая расширить политическую опору царской власти и привлечь общественные организации и оппозиционные партии к управлению государством.
Третий момент относится к ноябрю — декабрю 1916 г., когда депутатов Думы, возобновивших работу после долгого перерыва, Милюков 1 ноября сразу же встретил своей знаменитой речью «Глупость или измена?», и когда после 18 бурных заседаний Дума 16 декабря, всего за несколько часов до убийства Григория Распутина, была отпущена на каникулы.
Четвертым моментом стала развязка кризиса в феврале и марте 1917 г., завершившегося крушением династии Романовых и созданием нового хрупкого революционного правительства во главе с вождями оппозиции. Гайда согласен с большинством предыдущих историков в том, что, хотя кадеты представляли собой пеструю группу, Милюкову удавалось проводить свою линию при принятии большинства ключевых решений партии. Позиции Милюкова в то время и сейчас рассматривались как относительно умеренные. В 1914 г. кадеты не требовали никаких уступок в обмен на вступление в «Священное единение». В 1915 г. Милюков убедил своих соратников выдвинуть требование о создании «кабинета доверия» (то есть назначенного царем при неформальном участии важнейших общественных и политических лидеров) вместо кабинета, формально «ответственного» перед Думой. По-своему умеренной была и прочитанная Милюковым в 1916 г. речь «Глупость или измена?». Обрушившись главным образом на германское влияние при дворе (в первую очередь осуществлявшееся через императрицу и Распутина) и на пару министров (особенно на Б. Штюрмера), Милюков избегал нападок на самого царя и призывов покончить с монархией.
Наконец, в 1917 г., во время Февральской революции, Милюков проявил себя одним из самых решительных сторонников мнения о необходимости сохранить монархию, по крайней мере до созыва учредительного собрания.
Соответственно Гайда в том же духе, что и большинство современных исследователей, обрисовывает основные контуры политики кадетов во время войны, несмотря на заявления об определенной методологической новизне его работы. Считая, что прежние исследования о либералах в годы войны упускали из вида главное, потому что уделяли слишком много внимания социальной базе либеральных партий либо доказательствам их «революционности / контрреволюционности», Гайда спешит заявить о своей «независимости как от гегельянско-марксистской парадигмы исторической неизбежности… так и от позитивистского отказа от широких обобщений». «Политические поступки либералов, — утверждает он, — можно оценивать лишь исходя из их целесообразности в конкретных исторических обстоятельствах, которая может быть определена только при учете их собственного мировоззрения, взглядов и оценок в сравнении с окружавщей действительностью» (С. 33).
Вряд ли многие читатели сочтут такой подход революционным прорывом, хотя, возможно, с учетом работ, разбираемых Гайдой в обязательном всеобъемлющем обзоре советской литературы, эта позиция действительно была оправданна в конкретном историографическом контексте. Тем не менее здесь просматривается отчетливая нотка, всплывающая, когда становится ясно, что Гайда воспринимает «окружавшую действительность» российских либералов как реальность циничного политического махинатора.
При чтении этой книги меня неоднократно поражало сходство между интерпретационной установкой Гайды и тем жанром, который американцы называют «внутри Белтвэя» — то есть работами, посвященными клаустрофобическому миру политической элиты, живущей в столичном городе. Гайда утверждает, что практически все решения, принимавшиеся либеральными оппозиционерами, можно объяснить расчетом, основанном на политических возможностях и риске. Так, он считает, что начало войны стало для Милюкова «настоящим подарком», так как позволило ему «искусственно снять с повестки дня столь тяжелые вопросы о власти и революции… Первые разрывы снарядов заглушили голоса левых кадетов. Кроме того, война, по мнению кадетского руководства, усиливала надежды на послевоенную победу либерализма в России, ее "освобождение" от "внутренных врагов". Тактика "священного единения" таким образом последовательно продолжала довоенный курс "изоляции правительства"» (С. 57).
Аналогичным образом политическая неуступчивость оппозиции летом 1915 г. «вовсе не была продиктована неудачами на фронте как таковыми». Напротив, она вытекала из опасений перед тем, что «паника и погромные настроения» в среде населения приведут к атаке на режим, которую либералы будут не в силах обуздать (С. 75). Согласно этой же интерпретации, Милюков выступил в 1916 г. с речью «Глупость или измена?», исходя из того, что настроения в стране, радикализировавшиеся в результате кризиса снабжения, «вынуждали оппозицию к пробуждению от летней спячки и активизации политической борьбы» (С. 221). Все это в какой-то степени верно. Кадеты были не дураки. Как политики, они постоянно оценивали политическую ситуацию и старались в полной мере воспользоваться ситуацией. Более того, нет никаких причин предполагать, что кадеты были свободны от присущей политикам тенденции замыкаться в герметичных системах, в которых каждый шаг оценивается в первую очередь с точки зрения того, кому он выгоден, а кому невыгоден в сложной игре за статус и власть. Поэтому вполне разумно выдвинуть гипотезу о том, что российскую политику военного времени лучше всего рассматривать именно через этот довольно узкий объектив.
Но для того, чтобы такая ограниченная интерпретация стала правдоподобной, историк должен продемонстрировать, что политическим деятелям, участвовавшим в процессе, в самом деле была присуща подобная самозацикленность. Гайда же не показывает этого в достаточной степени. Например, пусть дисциплина в кадетской партии действительно укрепилась благодаря войне, но отсюда не следует, что именно это соображение определяло поступки Милюкова накануне войны. Милюков был способен учитывать требования политической тактики, не забывая в то же время о более общих соображениях: о необходимости сохранить великодержавный статус России и предотвратить доминирование Германии в Восточной Европе, о желании связать историческую участь России с участью Великобритании и Франции и, не в последнюю очередь, о человеколюбии и о тех страданиях, которые принесет с собой война.
Также, как мне показалось, те же самые представления о политическом махинаторстве повлияли на интерпретацию Гайды при обсуждении конкретных политических моментов. Заметное во многих случаях, это влияние наиболее очевидно при анализе национальной политики, особенно в связи с польским, украинским и еврейским «вопросами». Этим темам Гайда мог бы уделить чуть больше внимания. Вопросы национальной политики влекли за собой ожесточенные разногласия среди российской политической элиты, и линии разлома нередко проходили через сам либеральный лагерь. Впрочем, опять же, эти проблемы затрагиваются лишь в связи с партийной политикой, особенно в период существования Прогрессивного блока. Гайда, несомненно, прав в том смысле, что партийная политика всегда играла большую роль в те моменты, когда поднимались эти вопросы. Такие люди, как Милюков, несомненно, понимали, что краткосрочная цель заключения союзов с антисемитски настроенными членами политической коалиции подчас затрудняет движение к таким долгосрочным целям, как принятие закона о полном равноправии евреев. Но эти вопросы на самом деле имели самое серьезное личное и профессиональное значение для многих членов элиты. В результате во время либеральных дискуссий принципы нередко брали верх над практическими соображениями.
Например, в июне 1915 г., в самый разгар «великого отступления» русской армии, Милюков на кадетской партийной конференции заявил, что военных следует призвать к ответу за нарушения международного права во время оккупации Галиции. Ариадна Тыркова возразила, что это — проигрышное предложение, страдающее «излишком академизма». Русская армия проливает свою кровь, «а мы, с точки зрения Гаагской конвенции — дай Бог ей здоровья (смех) — будем выражать ей порицание!». Милюков на это ответил, что он «не может согласиться с тем слишком пренебрежительным отношением к Гаагской конвенции». «У нас право, — заявил он, — единственное оружие, каким мы можем бороться». Трудно представить себе, чтобы эта апелляция к Гаагской конвенции, потерпевшей столь очевидное фиаско при попытке предотвратить войны в Европе и сделать их менее жестокими, могла быть хитроумным тактическим шагом в контексте российской политики в июне 1915 г.
Таким образом, «тоска по влиянию» в рамках отечественной структуры власти была лишь одним из мотивов и соображений, стоявших за действиями либеральных оппозиционеров. Вообще, при изучении личного архива Милюкова поражаешься тому, как жадно во время войны он следил за всевозможными событиями в России, на фронте и за границей.
Главный недостаток книги Гайды состоит в том, что она зачастую не позволяет оценить рамки «контекста» либеральных политических шагов, которые обещал вскрыть Гайда и которые выходили далеко за пределы границ Петрограда. Вполне справедливо, что книга о том, как либералы пытались идти своими «путями к власти», в первую очередь посвящена той политической возне, которую так исчерпывающе описывает Гайда. Однако дело в том, что хождение по личным путям к власти было не единственным — а как мне представляется, в эту эпоху катастроф даже и не главным — занятием либеральных политиков, столь беззаветно веривших в служение своей стране и испытывавших столь сильный страх перед потенциальными последствиями революции.
Книга С. В. Куликова относится к тому же жанру «внутри Белтвэя», но в ней анализу подвергаются события по другую сторону политического фронта. Задача автора — понять поведение российской «бюрократической элиты». Я раскрыл его книгу, преисполненный больших надежд, вследствие давно назревшей потребности в углубленном изучении бюрократической верхушки. В историографии политических событий данной эпохи сложилась нездоровая привычка относиться к бюрократической элите как к паноптикуму мерзавцев. Русские политические мемуаристы не стеснялись метких словечек при описании своих коллег или врагов, и историки высоко ценят выразительность и лаконичность этих эпитетов, тем более что карусель бюрократических назначений даже у специалистов вызывает легкое головокружение.
Аналогичная потребность в простых объяснениях делает привлекательной идею о том, что большинство административных изменений военного времени осуществлялось под влиянием Распутина. Образ шарлатана, возглавляющего парад дураков, во многом объяснял политический крах царизма и освобождал как современников, так и позднейших исследователей от необходимости давать какое-то истолкование хитросплетениям политики царя накануне его свержения. Поэтому появление книги, столь открыто бросающей вызов основным предпосылкам подобной интерпретационной традиции, можно только приветствовать.
Согласно Куликову, царь, отнюдь не являясь безвольным реакционером, идущим на поводу у своей жены, был относительно последовательным либеральным реформатором. Он отбирал министров из бюрократических слоев, которые сами по себе являлись вотчиной других либеральных реформаторов. Вообще, с точки зрения Куликова верхушка бюрократии принадлежала к рядам интеллигенции. Распутин же и Александра не играли практически никакой роли при назначении членов кабинета. Напротив, выбор Николая зачастую представлял собой уступку оппозиции: в министры сперва попадали представители земства с губернаторским опытом, а затем их быстро сменили думские депутаты из числа правых (Хвостов) и центристов (Протопопов). У человека, знакомого с историей данного периода, такие утверждения оставляют несколько причудливое впечатление, словно он читает русскую историю в кэрролловском Зазеркалье.
Куликов, как и Гайда, делит свою книгу на три большие главы, но выбирает принципиально иную периодизацию.
Глава 1, «Начало и конец "священного единения"» завершается не летним кризисом 1915 г., а началом 1916 г. — и не без причин, поскольку в реальности крупный раскол в политической жизни, произошедший в конце лета 1915 г., став неожиданностью для разрозненных депутатов Думы и для тех, кто был удивлен отъездом Николая на фронт, для членов кабинета растянулся на более продолжительное время. Некоторые умеренные министры немедленно подали в отставку, однако такие важные умеренные фигуры, как военный министр А. А. Поливанов и министр иностранных дел С. Д. Сазонов, продержались в правительстве до марта и июля 1916 г. соответственно. Однако важнейшая причина для того, чтобы продлить первый период войны до 1916 г., связана с тем, что в центре книги стоит фигура Б. В. Штюрмера.
Автор ясно дает это понять второй главой книги — «Спокойная благожелательность»: премьерство Б. В. Штюрмера». Эта глава завершается отставкой Штюрмера в ноябре 1916 г. после милюковских обвинений в измене.
В последней главе, «Бюрократическая элита во время "штурма власти"» излагаются события последних месяцев перед Февральской революцией. Иконоборчество Куликова отнюдь не ограничивается попыткой реабилитировать Николая II. Собственно, пытаясь восстановить веру в политическое здравомыслие царя, автор проделывает то же самое в отношении Б. Штюрмера — человека, традиционно считавшегося одним из наиболее ненавидимых и бездарных царских министров в истории.
При этом Куликов добивается, честно говоря, шокирующего результата. На первой странице главы 2 у меня полезли глаза на лоб, едва я увидел заголовок, из которого следует, что премьерство Штюрмера было либо спокойным, либо благожелательным, если не тем и другим одновременно. Прочитав чуть ниже, что Штюрмер имел репутацию «мастера политического компромисса», я разинул рот. Последняя фраза на этой странице — о том, что Штюрмер последовательно выказывал «неподдельность своей либеральности», — породила у меня глубокие сомнения (С. 165). В конце концов, речь идет о человеке, которого Милюков прямо обвинял в «глупости или измене» и о котором французский посол, также склонный к вышеупомянутым язвительным эпитетам, отзывался следующим образом: «Человек он ниже среднего уровня. Ума небольшого; мелочен; души низкой; честности подозрительной; никакого государственного опыта и никакого делового размаха».
Для того, чтобы найти смысл в этих заявлениях, необходимо вникнуть в суть главного аргумента Куликова в отношении политики военного времени. Куликов считает, что основная борьба велась тогда не между «государством» и «обществом», «либералами» и «консерваторами», или даже между Думой и правительством. Все эти интерпретации, по его мнению, исходят из неверных представлений о политических взглядах царя и его ближайших приближенных. Они были настоящими «либералами», поскольку кадеты ушли так далеко влево, что их следовало считать «радикалами», а правую часть спектра занимали черносотенные экстремисты, от которых царь и его правительство последовательно старались «дистанцироваться».
Поначалу у читателя может возникнуть впечатление, что применительно к таким фигурам, как император или Штюрмер, Куликов пользуется термином «либерал» в достаточно широком смысле, имея в виду политический центр, но на самом деле он под либерализмом понимает нечто большее. «Государственный либерализм», исповедовавшийся бюрократической элитой, согласно Куликову, в целом совпадал с консервативно-либеральными взглядами Бориса Чичерина, имеющего репутацию отца-основателя российского либерализма. Реальная борьба шла между двумя течениями этого государственного либерализма. Первое, более традиционное течение Куликов называет «дуалистическим». Порождением именно этого течения были Основные законы, а само оно опиралось на идею о том, что народные представители желательны, но им можно поручить исключительно законодательные функции. Царь, как пишет Куликов, сохранял бы абсолютную власть, но только в административной сфере. Напротив, «парламентаристы» полагали, что народные представители должны контролировать и бюрократический аппарат. Они неизменно выступали за «ответственный кабинет» и другие формы «вмешательства» в работу правительства. «Дуалисты» же энергично сопротивлялись подобному вмешательству, причем их сопротивление было по своей природе либеральным: «Дуалисты были горячими сторонниками основополагающего принципа классического либерализма, принципа разделения властей. В чем и заключался корень их разногласий с парламентаристами».
Таким образом, царь и прочие убежденные «либеральные дуалисты», продолжает Куликов, были сторонниками Монтескье, в то время как так называемые либеральные «радикалы» были сторонниками Руссо (С. 18). Мы видим здесь поразительное и принципиальное непонимание как либеральной политической теории, так и политической истории России. Принцип «разделения властей» не означает возведения непреодолимой стены между двумя ветвями власти. Напротив, функциональное и институциональное разделение властей требует надзора обеих ветвей друг за другом. В противном случае, как прекрасно понимали политические теоретики (и российские политики), законодательная ветвь превратится в пустую говорильню. Если законодатели не знают, правильно ли выполняются принятые ими законы, и не могут призвать исполнительную власть к ответу за их невыполнение, то у них не будет настоящей законодательной власти. В отсутствие независимости судов те также не будут обладать реальными конституционными функциями. Но как бы ни были важны надзор и «вмешательство» в работу всех ветвей власти, для либеральных теоретиков особенно важно то, что исполнительная ветвь должна быть ограничена в применении своей власти, поскольку суды и законодатели не обладают реальной властью, если исполнительная ветвь не соблюдает принятых ими юридических предписаний.
В условиях неограниченной исполнительной власти законодатели и юристы в лучшем случае играют лишь роль советников и консультантов — иными словами, именно ту роль, которую Николай II отводил этим политическим институтам. Можно также отметить, что даже при самом благожелательном отношении к «дуалистам» их нельзя назвать сторонниками баланса между различными ветвями власти. Несмотря на все разговоры о стремлении законодательной власти оказывать влияние на исполнительную власть, согласно Основным законам право «вмешиваться» в работу законодателей имел как раз царь. Он назначал половину членов верхней палаты, обладал правом вето, мог распустить Думу и был вправе просто действовать в обход законодателей, издавая чрезвычайные указы. В самом деле, очень трудно проглотить идею о том, что император (или другие «дуалисты» Куликова — такие, как И. Л. Горемыкин) был «горячим сторонником» «разделения властей». С какой бы стороны ни смотреть на дело, Николай II не был либералом, а Российская империя не была либеральным государством. И речь идет не просто о терминологической софистике, поскольку аргументация Куликова (как и попытка реабилитировать царя и его консервативных министров) строится на предположении о том, что «дуалисты» трезво и ответственно играли роль советников во время политических кризисов военного периода и что причиной конфликта являлось неразумное поведение радикалов, выдававших себя за либералов. Куликов снова и снова утверждает, будто бы царь и его министры-«дуалисты» во всем, в чем только могли (за исключением перехода через Рубикон, на сторону «парламентаристов»), шли навстречу оппозиции.
Поэтому вся ответственность за политическую войну, по мнению Куликова, лежит исключительно на оппозиционерах-«парламентаристах». Николай же был виноват лишь в том, что верил в возможность компромисса с другой стороной. Вообще Куликов начинает свою книгу со знаменитого изречения Токвиля о той угрозе старому режиму, которую несут с собой реформы. Согласно интерпретации автора, империю погубили не неумелые действия царя или его правительства, а предательство на всех уровнях, кроме самого верхнего. Куликов снова и снова подчеркивает, что правительство, отнюдь не преследуя оппозицию, выдавало ей обширные субсидии в виде государственного финансирования работ по снабжению фронта, которые осуществлялись общественными организациями, выказывавшими открытую враждебность к царскому режиму. Автор помещает в книге несколько таблиц, демонстрирующих, насколько больше денег получали от правительства «левые» общественные организации по сравнению с «правыми». Отсюда следует, считает Куликов, что царь вел себя примирительно по отношению к левым и «дистанцировался» от правых.
В качестве дальнейшего доказательства того, что эти уступки служили питательной почвой для предательства, Куликов обрисовывает альянсы между министрами-«парламентаристами» и их коллегами в Думе и подробно рассказывает о том, как против царя во время войны выступили даже члены Государственного Совета, назначенные лично Николаем. Эти альянсы, заключавшиеся под зонтиком Прогрессивного блока, оказались прочными институтами, неподконтрольными императору. Аналогичным образом Куликов называет генерала М. В. Алексеева предводителем армейских заговорщиков, хотя от этого заявления поспешили откреститься даже редакторы книги, поместив в книге крайне необычную оговорку в виде примечания о том, что, по их мнению, это предположение не подкреплено достаточными доказательствами (С. 205).
Наконец, Куликов описывает, как сама царская семья участвовала в заговорах по свержению Николая: в частности, заговорщики собирались в Императорском яхт-клубе в Петрограде. (Будущим монархам на заметку: если политическое недовольство принимает характер эпидемии даже среди ваших дядьев в яхт-клубе, значит, пора присматривать удобный для проживания остров.) Большинство заявлений Куликова имеет определенную документальную основу, а некоторые (например, заговор великих князей) считаются у историков общепризнанными, однако Куликов по большей части неразборчиво относится к источникам, принимая на веру практически все прочитанное, если оно подкрепляет его аргументацию.
Например, возьмем военный переворот: разумеется, находились люди (в первую очередь это М. К. Лемке), по словам которых идея переворота широко обсуждалась в Ставке в мрачные дни войны. Само по себе это не особенно удивительно, с учетом событий военных лет, и у нас нет никаких оснований не верить тем источникам, которые свидетельствуют, что Алексеев знал об этих слухах и, возможно, даже принимал участие в открытых дискуссиях на эту тему. Еще более вероятно то, что к великому князю Николаю Николаевичу, бывшему верховному главнокомандующему армии, во время новогодних праздников 1917 г. оппозиционеры действительно обращались с просьбой возглавить военный переворот и что он взял два дня на размышление, прежде чем сказать «нет».
Однако факт остается фактом: переворота, направленного против царя, так и не состоялось. Лишь после того, как столица была захвачена восставшими толпами, верхушка политической элиты потребовала от царя отречения. Затрагивая тему заговора, как и во всех прочих отношениях, Куликов опирается на очень шаткие основания, и это досадно, поскольку при наличии в книге такого обширного материала о бюрократической политике во время войны, преподнесенного со множества интересных точек зрения, хотелось бы испытывать больше доверия к автору.
Работа Никиты Дедкова относится к иной категории, нежели работы Гайды и Куликова. Она также затрагивает тему либерализма во время войны, но лишь вкратце. Дедков предпринял попытку описать «консервативный либерализм Василия Маклакова». Маклаков представлял собой чрезвычайно интересную фигуру. Он был одним из ведущих кадетов и в первую очередь отличался готовностью отклоняться от партийной линии (как правило, в сторону большей умеренности) и своей репутацией одного из лучших ораторов России, которую приобрел, выступая защитником на знаменитых судебных процессах в последние годы империи. После революции он получил известность, ведя в печати дискуссию с Милюковым о причинах поражения либералов в 1917 г.
Книга Дедкова тоже делится на три части.
Первая глава — «Вехи» — освещает основные события жизни Маклакова в России, начиная с детства и бурных студенческих лет (он был исключен с естественно-научного факультета Московского университета за общественную деятельность, добился разрешения поступить на исторический факультет, затем не получил профессорской должности из-за своих былых прегрешений) и заканчивая карьерой адвоката (Маклакову приходилось защищать в суде и погромщиков, и Менделя Бейлиса — еврея, обвинявшегося в убийстве православного мальчика) и деятельностью в кадетской партии и в Думе.
В главе 2, «Самостоятельная сила добра», разбираются главным образом связи Маклакова с Львом Толстым и то влияние, которое оказал на него Толстой.
В главе 3, «Консервативный либерализм», в общих чертах рассматриваются либеральные воззрения Маклакова. Маклаков — важная фигура, весьма показательная с точки зрения русского либерализма, включая либерализм военных лет, и Дедков весьма удачно пишет о своем герое. Однако во многих отношениях от автора хотелось бы большей глубины. Многие проблемы его работы связаны со структурой книги. Дедков, отважившийся изложить биографию крупного деятеля, описать взаимодействие между либерализмом и толстовством и разобрать элементы консервативного либерализма в книге, насчитывающей менее 200 страниц, оставляет без ответа многие ключевые вопросы. Взять, например, ранние годы жизни Маклакова. Конечно, интересно узнать о том, каких представителей либерализма Маклаков видел в юности в своем доме, но зачем говорить об этом так подробно? Дедков вполне разумно предполагает, что темперамент Маклакова и его последующая политическая позиция во многом сложились во время жизни дома и в годы учебы. Однако проблема в том, что брат В. Маклакова Николай, выросший в том же самом доме, стал одним из самых правых министров в правительстве. Дедков отмечает это обстоятельство (С. 27), но никак не пытается его объяснить. Николай Маклаков еще раз появляется на страницах книги чуть позже, когда Дедков сообщает, что братья перестали разговаривать друг с другом еще в 1890-е гг. (С. 65), но интригующая история о том, как произошло отчуждение братьев, некогда близких друг другу, и о том, как на закате империи они возглавили два диаметрально противоположных политических течения, остается не освещенной. Можно заподозрить, что причиной тому была нехватка источников, однако вынужденное замалчивание едва ли не важнейшего семейного события выглядит непонятным на фоне того, как много драгоценного места Дедков отводит на описание детских лет Маклакова, в противоположность его адвокатской карьере, от разбора которой Дедков уклоняется, заявляя, что эта тема увела бы читателя «в сторону» от истории общественной мысли» (С. 55).
Но поскольку одним из краеугольных камней «консервативного либерализма» Маклакова было его отношение к правлению закона как к фундаментальному либеральному и практическому принципу, то, возможно, стоило бы уделить его юридической карьере больше внимания за счет рассказа о детских годах.
Кроме того, Дедков слабовато освещает карьеру Маклакова как политика. С точки зрения настоящей статьи особо следует подчеркнуть слишком поверхностное изложение деятельности Маклакова в годы войны. Дедков полагает, что «Маклаков вел себя удивительно пассивно» вплоть до «недвусмысленного объявления войны» правительству 3 ноября 1916 г., через два дня после того, как так же поступил Милюков (С. 106–107). В этом смысле Дедков входит в резкое противоречие с Гайдой, по словам которого Маклаков играл ключевую роль, выступая как посредник между партиями, входившими в состав Прогрессивного блока, и решительно поддерживая умеренную позицию Милюкова на важнейших кадетских совещаниях. Опубликованные стенограммы кадетских партийных конференций подтверждают интерпретацию Гайды. Маклаков во время войны так же не стеснялся громких и вызывающих заявлений, как и после нее. Книга Гайды не числится в библиографии у Дедкова, хотя и была издана двумя годами ранее. В том, что касается поведения либералов во время войны, уже очевидно, что работа Гайды требует прочтения ради того, чтобы не совершать подобных ошибок.
Раздел о Толстом сперва выглядит курьезным, так как в основе консервативного либерализма Маклакова лежали продуманные представления о роли государства при либеральном строе. Маклаков осознавал дилемму либерализма, заключающуюся в том, что для защиты прав личности требуется сильное государство, но при этом слишком сильное государство может посягнуть на сами эти права. Подобно либералам во всем мире, Маклаков усматривал возможное решение этой дилеммы в правлении закона, поскольку тот будет защищать свободу и безопасность граждан и в то же время сдерживать амбиции исполнительной власти. Это была намного более сложная модель, чем примитивная точка зрения Толстого на государство как на воплощение насилия и принуждения. Как отмечает сам Дедков, «Толстой был абсолютно равнодушен» к конкретной форме государства и придерживался откровенно анархистских взглядов (С. 182). Собственно, Дедков признает, что в конкретном плане непосредственное «влияние» Толстого на Маклакова проявилось разве что в его принципиальном неприятии смертных приговоров и, в меньшей степени, в его отвращении к войне (С. 139–140).
Суть вопроса, разумеется, состоит не в том, что Маклаков заимствовал у Толстого какие-то идеи, а в том, что его привлекали представления Толстого о нравственности, гуманизме, любви и уважении к личности. Длительная дружба между Маклаковым и Толстым вполне доказывает существование общих нравственных принципов, разделявшихся оппозиционерами в последние годы империи. Разумеется, не все из них обряжались в крестьянские рубахи и занимались пахотой (хотя Маклаков посетил одну из первых толстовских коммун). Напротив, большинство старалось действовать скорее в контексте государств, наций и империй, нежели вне его.
Наконец, Дедков, несомненно, прав, полагая, что давние связи Маклакова с самым видным писателем России не только свидетельствуют о привлекательности личности Толстого, но и дают представление об интеллектуальной и нравственной сущности самого Маклакова. В последней главе Дедков пытается более-менее подробно раскрыть суть «консервативного либерализма» Маклакова. Сперва он утверждает, что вопреки обвинениям со стороны современников, Маклаков был истинным либералом. Как отмечает Дедков, многие подчеркивали, что Маклаков принадлежал к правому крылу кадетов и нередко склонялся к октябристским позициям. Сам Маклаков однажды даже иронически заявил своим коллегам: «Я отличный кадет. Я принимаю всю программу за исключением принудительного отчуждения земли, всеобщего избирательного права и равноправия евреев» (С. 173). Однако Дедков на это возражает, что Маклаков при всем при том никогда не заигрывал с октябристами на предмет вступления в их ряды и до самого конца оставался с кадетами. Маклаков не порывал с конституционными демократами, потому что считал, что самая важная политическая задача, стоящая перед Россией, — создание государства, основанного на правлении закона. Россия нуждалась в настоящей конституции, а кадеты были партией идеологических конституционалистов. Излагая политические взгляды Маклакова, фактически никогда всесторонне не освещавшиеся в форме монографии, Дедков подчеркивает либеральное по своей сути убеждение Маклакова в том, что свобода невозможна без эффективного, но ограниченного государства. Как Маклаков лаконично выразился в 1920-х гг., «в области культуры обнаруживается истинное назначение государства: создавать для народа условия, в которых может развиваться и процветать его свободная деятельность. Это очень много, но это и все» (С. 154).
Мы уже упоминали второй либеральный принцип Маклакова: значение закона и правления закона для правильного функционирования политической и социальной системы. Наконец, Дедков описывает мысли Маклакова по поводу «Эволюции и Революции». Известно, что этот вопрос являлся камнем преткновения для российских либералов. С одной стороны, остро осознавая нелиберальную природу русского государства, они активно добивались фундаментальных изменений российской политической системы. С другой стороны, они понимали, что полномасштабная революция разрушает государство, а вместе с ним — и те самые права и безопасность, которые они пытались обеспечить. В идеале все либералы предпочли бы, чтобы Россия приняла конституцию и создала у себя функционирующий демократический строй, избежав серьезных политических потрясений, однако вероятность такой трансформации в конечном счете зависела от готовности самодержца отменить самодержавие. Маклаков был терпелив и относительно оптимистичен, вследствие чего и осуждал революционный путь в течение почти всей своей карьеры. Вместе со всеми своими соратниками он видел, что Октябрьский манифест и Основные законы не сделали Россию конституционным государством, но в противоположность тем представителям левого крыла кадетов, которые считали, что уступки 1905 года — это максимум того, на что готов пойти царь, Маклаков все же надеялся, что за ними последуют новые эволюционные этапы, которые в конце концов приведут к конституционному строю.
Одновременно с тем Маклаков открыто признавал право народа на восстание. Если государство имеет право защищать себя от подрывных элементов, то и народ имеет право на насильственное свержение угнетателей. Однако Маклаков полагал, что такие революции едва ли кончатся чем-либо хорошим — по большей части исходя из своего неверия в то, что массы, и в первую очередь российские массы, сумеют создать справедливую систему правления. В этом состояла основа «консервативного» аспекта «консервативного либерализма» Маклакова. Он считал, что вследствие низкого культурного уровня России ее граждане, если им представится случай, будут стремиться к жестокому возмездию, а не к построению либерального строя. Дедков объясняет такую позицию Маклакова в первую очередь его опытом адвокатской работы, и эта интерпретация не лишена смысла. Взять хотя бы самый яркий пример: Маклаков, в противоположность прочим защитникам Менделя Бейлиса, считал, что нельзя строить защиту Бейлиса на осуждении антисемитизма, поскольку опасался негативной реакции со стороны присяжных. Напротив, по мнению Маклакова, в суде следовало показать, что возведение ложных обвинений хотя бы на презренного еврея не только противоречит понятию правосудия, но и является оскорблением в адрес российского государства. Маклаков переубедил своих оппонентов и выиграл дело (С. 64–67). Ту же позицию он занимал и по «еврейскому вопросу», полагая, что делать требование о равноправии евреев одним из ключевых положений партийной программы ошибочно. Вместо этого он отстаивал идею о том, что кадеты должны добиваться полного гражданского равноправия для всех граждан, что решило бы этот вопрос без упоминания евреев. Такое недоверие к собственным согражданам, несомненно, является «консервативным» и весьма неудобным для либеральных теоретиков, но оно с самого начала представляло собой часть либерализма. Дедков вполне прав, утверждая, что подобное сочетание взглядов делало Маклакова консервативным либералом, а не либеральным консерватором. Это существенное отличие, поскольку оно помогает установить границы либерального лагеря в поздние годы Российской империи — границы, которые зачастую трудно определить.
Тут важно отметить, что никто из вышеупомянутых авторов так и не дал точного определения либерализма. Это не обязательно представляет собой проблему, поскольку у нас вообще нет четкого определения, пригодного для всех стран и эпох, — так, даже в шести справочниках, вышедших в одном и том же издательстве (Oxford), содержится шесть разных определений. Я буду определять либерализм как учение, требующее гарантированных прав личности в рамках стабильного, справедливого и демократического политического строя, хотя это определение затрагивает не менее обширный вопрос об определении таких понятий, как «права», «справедливость» и «демократия». Такая концептуальная аморфность имеет свои недостатки: например, она позволяет Куликову и подобным ему исследователям утверждать, что Николай II был либералом. Но есть у нее и определенные преимущества — в первую очередь то, что она может диктовать историкам понимание либерализма как динамичной силы, которую имеет смысл рассматривать лишь в конкретном историческом контексте. Дедков упускает такую возможность выявить динамику российского либерализма, когда принимает решение отказаться от углубленного изучения политической эволюции Маклакова в годы войны. И это весьма печально, так как путь, проделанный Маклаковым, вероятно, дает наилучшее представление о том, как российский либерализм трансформировался в ту эпоху. Собственно, в каждый ключевой кризисный момент Маклаков выражал либеральную дилемму более четко, чем какая-либо другая фигура. Первый такой момент настал 27 сентября 1915 г., после перехода Николая в правый лагерь, когда Маклаков опубликовал в «Русских ведомостях» статью «Трагическое положение». В этой статье Маклаков приводит памятный образ русского правительства как «безумного шофера», мчащегося по узкой дороге среди утесов, потеряв контроль над автомобилем. Перед пассажиром стоит дилемма: что опаснее — оставить все как есть или попытаться отобрать у водителя руль, чтобы взять ситуацию в свои руки. Кроме того, Маклаков просит читателей представить себе, что сзади сидит мать пассажира, находясь в полной зависимости от его решения. С одной стороны, ситуация от этого обостряется, поскольку неверное решение означает гибель не только пассажира, но и тех, кто ему дорог. С другой стороны, пишет Маклаков, что, если «ваша мать, при виде опасности, будет просить вас о помощи и, не понимая вашего поведения, обвинять вас за бездействие и равнодушие?» Ответ на эту дилемму для Маклакова и для кадетской партии в целом заключался в 1915 г. в том, чтобы не хвататься за руль, — главным образом, как лаконично объясняет Гайда, в силу острого осознания ими того факта, что, к довершению несчастья, они были знакомы с теорией вождения, но не обладали соответствующей практикой и слабо представляли себе, как работает автомобиль (Гайда, с. 161).
Однако год спустя Маклаков (опять же, вместе с прочими кадетами) ясно понял, что настало время отстранить водителя от управления. Речь Маклакова, произнесенная в Думе 3 ноября 1916 г., через два дня после скандальной речи Милюкова «Глупость или измена?», к сожалению, не привлекла к себе такого же внимания историков, как милюковская. Однако, в то время как в речи Маклакова отсутствует запоминающийся лозунг, она еще более безжалостна в своей логике. Сперва Маклаков задается вопросом, почему столько русских людей ощущают, что «мы стоим перед новой и грозной опасностью»? Как вполне справедливо считает Маклаков, дело совсем не в военных неудачах конца 1916 г. Наоборот, утверждает он, ситуация на фронте обещает измениться в пользу России. Не секрет, что «хотя производительность наших заводов растет с каждым месяцем, хотя прав гр. Капнист, что военная усталость Германии становится для всех очевидной». И лишь между строчками можно прочесть, что неминуемо надвигается нечто, напоминающее «панику в войске». «Причина только одна: войско перестает верить вождям… тогда в войско закрадывается страшный слух: «нам изменили», и когда это случится, тогда потерян смысл общего дела, потеряна способность повиновения, каждый начинает думать — спасайся, кто может, — и паника наступает». Эта потеря веры, заявляет Маклаков, уже произошла в тылу и вскоре проникнет на фронт.
Более того, самое важное в том, что вера была утрачена не из-за каких-то конкретных ошибок правительства. «Случай? Нет, господа, это не случай, это система… Нет, это не случай, это режим, это проклятый, старый, отживший, но еще живучий режим, который основа всего». Из этого выводится вполне ясное заключение: «Старый режим и интересы России теперь разошлись, и перед каждым министром стоит дилемма: служить ли России или служить режиму? Служить одновременно тому и другому так же невозможно, как служить мамоне и Богу. (Продолжительные рукоплесания в левой части правой, в центре и слева. Голоса: «Браво!»)». Для всех остальных выбор намного более очевиден, поскольку «долготерпение России велико, как велика Россия сама. Но эта война всему показала предел». «И пусть не думает Марков 2 [правый депутат, ранее обвинявший Милюкова в измене], что я, как и другие, зовем к революции. Звать к ней не нужно. Революцию умышленно вызывают с министерских скамей».
Как мы отмечали выше, причиной, по которой Маклаков в течение всей своей карьеры выступал против революции, было его терпение и вера в то, что царское правительство способно реформироваться. Утратив эту веру, он стал революционером. В том совете, который он дает коллегам-депутатам, отражается как это изменение, так и понимание того, что умеренные думцы в этом отношении отстают от большей части населения. Ранее они плелись в хвосте, но теперь должны стать вождями, если не хотят, чтобы Россию постигла «катастрофа». «Мы же работать с этим правительством не можем, — заявляет он. — Мы можем ему лишь мешать». Очевидны революционные настроения, овладевшие Маклаковым, как и его попытка отобрать руль у безумного водителя.
После того, как вся политическая элита ополчилась против царя, некоторые представители правых все еще отчаянно цеплялись за идею о том, что эпицентром политической катастрофы является Распутин. Главные заговорщики, князь Ф. Ф. Юсупов, В. М. Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович, начали нащупывать контакты с умеренными, действуя методами, которые были бы более уместны в случае сколачивания коалиции, чем в случае заговора с целью убийства. Хотя среди умеренных не нашлось дураков, готовых присоединиться к заговорщикам в ночь убийства, они были заблаговременно оповещены о заговоре. После речи 3 ноября, направленной, как показалось Юсупову, против Распутина, Маклаков получил приглашение участвовать в убийстве. Как Маклаков справедливо указывал позже, он не упоминал Распутина в своей речи; выражаясь точнее, основная ее посылка заключалась в том, что проблема носит «системный» (т. е. виновато самодержавие как таковое), а не «случайный» (т. е. причина в странном влиянии Распутина) характер. Тем не менее Маклаков был посвящен в тайну и молчал, впоследствии признавшись, что в юридическом плане он, несомненно, был виновен в качестве соучастника заговора. Готовность юриста, сделавшего своим идолом правление закона, пойти на преступление и принять участие в убийстве, демонстрирует, в каком отчаянном положении в эти последние месяцы старого режима находились российские либералы, убежденные в том, что царь тянет их за собой в пропасть, но не знающие, как предотвратить катастрофу.
Ни одна из рецензируемых книг в полной мере не передает различных степеней беспокойства, одолевавших Маклакова во время войны, причем подобная невнимательность относится не только к Маклакову лично, но и к либеральному движению в целом. Гайда, несомненно, разбирается в политической тактике либералов, а Дедков весьма умело излагает концептуальные вопросы, занимающие ключевое место в дискуссиях о маклаковском варианте консервативного либерализма, однако ни тот, ни другой, по-видимому, не в состоянии донести до читателя преданность либеральному делу во всей ее сложности. Отчасти причиной этому является определенная статичность, присущая всем трем книгам, — неспособность выявить органическое развитие российского либерализма в годы войны. Для Дедкова консервативный либерализм представляет собой политическую программу, которую Маклаков с течением времени уточнял и дополнял, но служившую для него более-менее последовательным руководящим принципом в течение всей его взрослой жизни. Для Гайды понимание политической тактики означает понимание причин либерального политического выбора. Куликов же неизменно зациклен на уверенности в том, что политические дискуссии той эпохи можно свести к борьбе между «парламентаристами» и «дуалистами».
Несмотря на всю разницу между этими авторами, все трое исходят из предположения, что основные фигуры того периода обладали стабильным политическим «я» и политическими желаниями, изменявшимися разве что вследствие тактических соображений.
Но это — необоснованное предположение. Война везде и всюду бросает принципиальный вызов либеральным взглядам и политике. Как давно подметил Клаузевиц, военные действия подчиняются собственной безжалостной логике, и эта логика нелиберальна по своей природе. Те, чьи либеральные убеждения слабы, почти сразу же дезертируют, и даже убежденные либералы порой бывают охвачены мучительными сомнениями. Контекст либеральной политики во время войны всегда меняется. В частности, как я полагаю, мы должны всерьез относиться к словам политиков той эпохи, когда те говорят об овладевшем ими ощущении кризиса и неминуемого краха. Маклаков искренне и неподдельно беспокоился по поводу того, что царь ведет страну к пропасти. Когда Поливанов 6 августа 1915 г. описывал в Совете Министров положение на фронте, он был так расстроен, что его буквально трясло. Когда оппозиционеры снова и снова выражали тревогу по поводу того, что Россия застряла в политическом тупике, из которого нет приемлемого выхода, это было выражение отчаяния, а не открывающихся возможностей.
И это отчаяние было как частным, так и общественным. А.М. Колюбакин, основатель кадетской партии и член ее ЦК, был убит на фронте в 1915 г., как и сын Милюкова Сергей. Утверждая, что политиканство военного времени — своего рода игра, мы должны, по крайней мере, признать, что эти политики играли на свои собственные деньги, а не на деньги заведения. Эта неспособность учесть эмоциональный вклад, который либеральные деятели вносили в проводимую ими политику, имеет серьезные последствия. Самое важное здесь то, что акцент на политических играх, а не на политической сути приводит этих авторов к непониманию фундаментального контекста политики военного времени. Этот контекст в первую очередь состоял не в расширении политических возможностей. Главный сюжет войны заключался в том, что все эти политики стали свидетелями краха российского государства — распада страны со всеми его ужасающими подробностями (бессмысленная гибель солдат, миллионы беженцев, гиперинфляция и многое другое), порождавшего у них самые серьезные опасения в отношении будущего.
Ключевые деятели того времени и тогда, и в своих последующих мемуарах считали очевидной неспособность государства справиться со своими обязанностями, но в рецензируемых работах этому моменту уделяется слишком мало внимания.
Мы не сможем понять действий петроградских кадетов, как и самого широкого круга людей в правительстве и вне его, если не проникнемся одолевавшим их ощущением цейтнота. Именно убеждение в том, что самодержавие неспособно эффективно управлять Россией в обстановке тотальной войны, после 1915 г. настроило против царя даже бюрократическую верхушку, а вовсе не дебаты по поводу «парламентаризма» или готовность к предательству.
Затронем лишь один многозначительный пример: вопрос об общественных организациях. Консерваторы с самого начала ставили под сомнение заявления либеральных активистов о том, что снабжение фронта удалось наладить лишь с помощью групп, действовавших вне рамок бюрократических министерств (Союз городов, Земский союз, военно-промышленные комитеты и др.). Как указывают и Гайда, и Куликов, правые политики, напротив, утверждали, что эти группы являются троянскими конями либералов, чьи вожди больше заинтересованы в политических приобретениях, чем в работе для нужд фронта. Как мы видели ранее, гигантские денежные суммы, выдававшиеся государством этим группам, несмотря на подобные подозрения, в глазах Куликова служат доказательством того, что царь и его министры-«дуалисты» стремились к примирению и к политическому миру. Консервативные нападки дополнительно подхлестывались сообщениями о колоссальной коррупции и растратах в этих организациях, о том, что они служат для зажиточных граждан синекурой, позволяющей избежать мобилизации, дают возможность наживаться на войне и обильно тратить деньги государства на достижение собственных политических целей. Резкая критика в адрес этих организаций и возглавлявших их людей (в первую очередь — князя Г. Е. Львова, которого работа во главе Земского союза в итоге привела на должность первого председателя Временного правительства) неоднократно повторялась историками в Советском Союзе и на Западе и в данный момент снова набирает популярность. Основной постулат этой критики сводится к тому, что либералам не следовало настаивать на создании и финансировании организаций, дублировавших работу бюрократических органов государства, так как это влекло за собой перерасход денег, конкуренцию за важнейшие ресурсы и поставки, и вместо пользы приводило к путанице и расточительству.
Общественные организации, несомненно, всегда были расточительными, нередко некомпетентными и порой коррумпированными. Но для того, чтобы обоснованно заявлять, что они были не нужны стране, сперва следует предположить, что если бы те же самые ресурсы направлялись в государственные учреждения, чьи функции дублировались, то те сумели бы распорядиться ими удачнее. Можно ли сказать, что «объективно» дело обстояло именно так — вопрос интересный и важный, хотя я подозреваю, что ответ на него будет отрицательный, так как российское государство и царский бюрократический аппарат уже в начале войны подошли к пределу своих возможностей.
Например, представляется очевидным, что создание общественными организациями сети госпиталей (с соответствующим медицинским персоналом) для лечения раненых солдат было бы не под силу армейским должностным лицам, которые в течение всей войны не могли организовать адекватную подготовку собственных медиков и армейских врачей в достаточном количестве. Собственно, государство уже до войны осознавало свою неспособность решить многие важные задачи, например признавая, что в случае голода, как показали события 1891 г., оно не справится с ситуацией без помощи со стороны общественных организаций.
В 1908 г., когда неурожай грозил голодом населению Саратовской губернии, Совет министров принял решение санкционировать, поощрять и финансировать работу местных негосударственных групп помощи голодающим. Мы не собираемся вступать в полемику со многими исследователями общественных организаций, считающими их неэффективными, а хотим лишь сказать, что любые мероприятия, превосходящие возможности государства, были обречены на крайнюю неэффективность. С учетом потребности страны в большем числе государственных услуг она была вынуждена платить такую цену.
Однако более важный контекст, в котором протекала политическая деятельность и оппозиции, и правительства в годы войны, создавался «субъективным» пониманием этой проблемы. В данном отношении, как я думаю, мы должны принимать во внимание тот факт, что все оппозиционеры (и все большее число сторонников государства) были убеждены в недееспособности государства. Даже такие представители правого крыла, как вождь националистов А. И. Савенко, уже в 1915 г. признавали его недееспособность: «Война экзамен, великий экзамен, и нужно сказать, что если во время этого великого эказамена русский народ и русское общество выдержали вполне испытание зрелости, то правительство, и в частности военное управление, этого великого экзамена не выдержали».
Нет никаких сомнений в искренней убежденности оппозиционеров в том, что они лучше правительства могли бы справиться с задачей снабжения фронта и что они оказывают колоссальную услугу и государству, и российскому народу. С этой точки зрения выделение правительством гигантских сумм этим организациям представляло собой не уступку, а молчаливое признание такого состояния дел.
Иными словами, недостаточно показать, что эти организации создавали для либералов серьезные политические возможности. Разумеется, они представляли собой исключительно удобный случай — настолько удобный, что, как убедительно указывает Гайда, сам Милюков быстро оценил исходящую от них угрозу для кадетского руководства в либеральном лагере — не меньшую, чем для правительства. Но в основе их деятельности лежало общественное воодушевление, и сами они считали, что их существование оправдано теми усилиями, которые они прилагают для снабжения армии ради достижения ею победы.
В целом, три рассмотренные книги обладают определенными достоинствами, но все они упускают из вида динамичный аспект не только русского либерализма, но и либерализма вообще. Подобные ущербные интерпретации либерализма несколько тревожны в современном контексте. Куликов подчеркивает, что его книга полезна не только для историков, но и для нынешних российских политиков с их возрождением интереса к либерализму, которое делает важным «изучение предреволюционной бюрократической элиты» (С. 18). Если принимать всерьез аргумент Куликова о том, что либерализм означает беспредельное главенство исполнительной власти над бюрократическим аппаратом и что покушающиеся.
Даже самый тупой царский министр осознавал абсурдность идеи, например, о том, что Союз русского народа занялся бы оказанием помощи еврейским, польским и армянским беженцам. на прерогативы администрации виновны в ослаблении государства и содействуют его разрушению, то подобный «либерализм» станет слишком привлекательным для политиков и лишит жалкое российское либеральное меньшинство даже права называться этим именем. Пожалуй, не меньше огорчает и принципиальный цинизм Гайды — черта, разделяемая им со многими историками из всех стран мира. Возможно, нам стоило бы быть менее циничными, особенно при изучении прошлого сквозь призму нашего разочарования. В этом отношении всем трем авторам было бы полезно внимательно ознакомиться с книгой Мелиссы Стокдейл о Милюкове, которую один раз цитирует Куликов, а другие вовсе не упоминают. Книга Стокдейл отличается не только своим отношением к Милюкову как к исторической фигуре, но и тонким пониманием как разновидностей либерализма, имевших хождение среди русских политиков в первые годы XX века, так и истории эволюции европейского либерализма еще до того, как военные потрясения навсегда изменили его лицо. Но Милюков, при всем его значении, был лишь одним из представителей поразительно талантливой и интеллигентной группы либеральных оппозиционеров. Гайда прилагает серьезные усилия к тому, чтобы показать разнообразие и богатство взглядов этих фигур, однако «последнего слова» о русском либерализме еще не сказано. Гайда прав — мы должны понимать поступки русских либералов в том контексте, в котором они жили. Что нам нужно — оценить широту этого контекста, приобрести эрудицию, сравнимую с эрудицией этих политиков, и в полной мере проникнуться теми моральными убеждениями, которыми они руководствовались в своей жизни.
Выражаю благодарность Тэду Уиксу и Питеру Холквисту за их замечания по данной статье.
Авторизованный перевод с английского Николая Эдельмана.
Полный текст: Русский Сборник. Т. XIII. М., 2012.